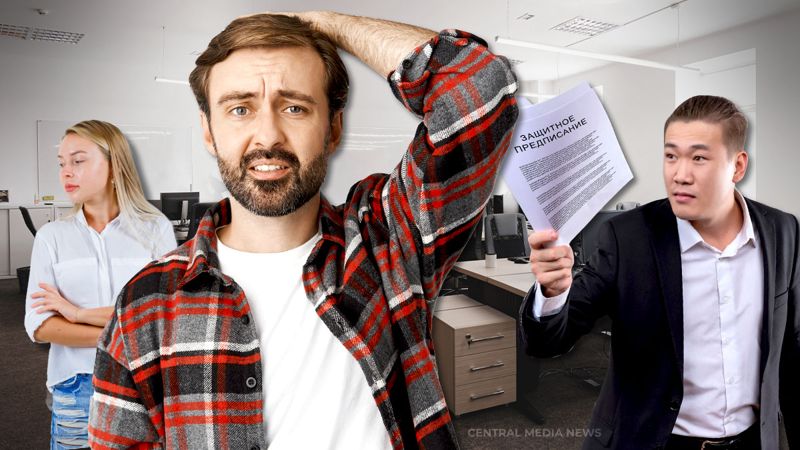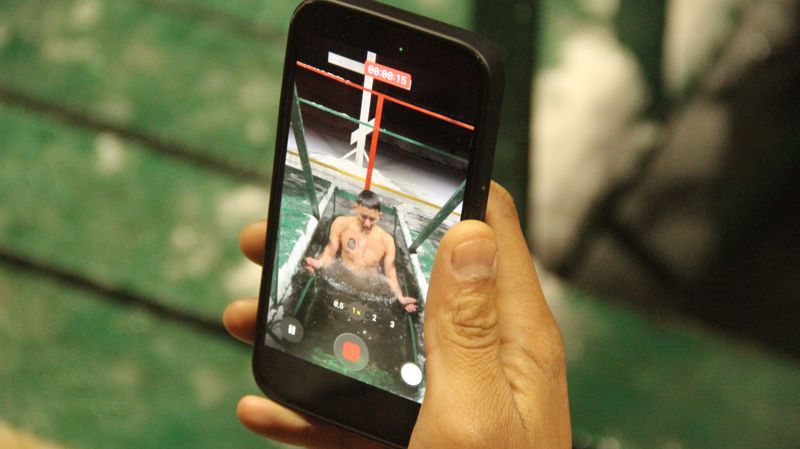В Казахстане разгорается дискуссия вокруг идеи уведомлять работодателей и учебные заведения о выданных защитных предписаниях в отношении семейных дебоширов. Предложение прозвучало в мажилисе во время обсуждения законопроекта о профилактике правонарушений. Корреспондент CMN.KZ разбиралась, может ли новая мера действительно защитить граждан или, напротив, усугубить ситуацию
Надо отметить, что в обществе инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Одни считают, что это поможет предотвратить новые трагедии, другие — что такой шаг отпугнёт жертв и приведёт к оттоку заявлений, а представители старшего поколения напомнил, что подобная практика уже была в Советском Союзе, когда за любой проступок тебя "разбирали" на партийном собрании.
Идея принадлежит депутату Павлу Казанцеву. В мажилисе он заявил, что законопроект о профилактике правонарушений в числе прочего вводит и новые меры – официальные предостережения и защитные предписания.
«Это серьёзно. Теперь местные исполнительные органы, сотрудники внутренних дел, организации занятости и соцзащиты населения вправе выдавать письменное предписание физическому лицу о недопустимости продолжения им антиобщественного поведения. Об этом могут сообщить по месту работы, учёбы или в органы самоуправления граждан по месту жительства. Почему по аналогии с официальными предостережением не сообщать о вынесении защитного предписания по месту работы либо учёбы лица? Согласитесь, это хорошая мера профилактики», – заявил мажилисмен.

Министр внутренних дел Ержан Саденов идею поддержал. Он отметил, что в ходе разработки законопроекта были разные мнения в части сохранения семейной тайны.
«Общественное порицание всегда имело эффект. Мы знаем и в прошлом, как товарищеские суды наравне с доской почёта, другие доски были. Поэтому очень хорошее предложение. Я поддерживаю».
Число заявлений сократилось, но насилия меньше не стало
Ранее детский омбудсмен Динара Закиева в своём отчёте подчеркнула, что за первые три месяца 2025 года в Казахстане зарегистрировали 17 тысяч сообщений о бытовом насилии – это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако, стоит отметить, что число возбужденных уголовных дел выросло в четыре раза: 840 против 199 годом ранее.
Закиева также отметила, что за последний год в стране начали действовать новые инструменты профилактики. По её данным, открыто 112 Центров поддержки семьи, где жертвы могут получить юридическую, психологическую и социальную помощь. Работают мобильные группы по выявлению случаев насилия и службы психологической поддержки, а суды получили возможность назначать агрессорам обязательную терапию.
Однако, как подчеркнула детский омбудсмен, этот механизм пока используется крайне редко:
«Мы видим, что по решению суда курс психологической работы с агрессором прошли всего девять человек. Эту практику нужно срочно расширять, чтобы люди проходили реабилитацию, а не просто возвращались домой после штрафов и предписаний», – подчеркнула Закиева.
Но чем больше времени проходит, тем больше вопросов вызывает официальная статистика.
Депутат Константин Авершин сообщил, что за восемь месяцев 2025 года в стране зарегистрировали 43 147 заявлений о семейно-бытовых правонарушениях — на 18,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Однако, согласно данным мажилисмена, доля обращений, оставленных без рассмотрения, выросла с 22% до 28%.
«С июня 2024 года статьи об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и побоях были перенесены в Уголовный кодекс. Такая практика, при которой обращения граждан полноценно не рассматриваются, усугубляет проблему безнаказанности, ведёт к повторному насилию, а в отдельных случаях – к более тяжким преступлениям», – отметил депутат.
Министр Ержан Саденов объяснил снижение числа заявлений активной профилактической работой и напомнил, что в структуре МВД создан отдельный департамент по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Такая мера отпугнёт жертв, а не защитит их
Основательница фонда «НеМолчи» Дина Тансари объяснила корреспонденту CMN.KZ, что если начать сообщать работодателям о выданных защитных предписаниях, число заявлений о бытовом насилии резко сократится.
По её словам, подобная мера, хоть и подаётся как профилактическая, на деле создаёт дополнительное давление на самих жертв.
«Я вам говорю как человек, который ежедневно работает с этими женщинами. Каждая вторая рассказывает, что полиция говорит ей: “Не подавайте заявление, это навредит мужу – он потеряет работу, пострадают дети”. Это при том, что такой нормы нет. А если её введут официально – женщины просто перестанут обращаться», – предупреждает правозащитница.
Она также отмечает, что многие пострадавшие и без того живут в страхе, им сложно решиться даже на звонок в полицию, ведь любое обращение может обернуться против них. Часто жертвы зависят от агрессора материально, живут с ним под одной крышей и боятся его реакции.

Тансари подчёркивает, что государству стоит сосредоточиться не на формальных предупреждениях, а на реальных инструментах защиты. По её мнению, эффективной мерой было бы ужесточение ответственности за нарушение защитных предписаний, а не введение «общественного позора».
«Нужно не пугать бумажкой, а делать нарушение защитного предписания уголовно наказуемым. Нарушил один раз – 50 суток. Второй раз – от двух лет лишения свободы и дальше больше. Тогда всё заработает».
Во-вторых, по её словам, нужно провести круглый стол с женщинами, пригласить туда жертв насилия и спросить, как правильно будет, как лучше.
Публичное порицание может спровоцировать ещё больше агрессии
Руководитель Ассоциации психологов Казахстана Зарина Кенжекар считает, что идея уведомлять работодателя или учебное заведение о защитном предписании в отношении агрессора вызывает серьёзные сомнения.
Эксперт отметила, что с одной стороны, это может стать дополнительным инструментом профилактики насилия, с другой – привести к непредсказуемым психологическим последствиям как для агрессора, так и для самой жертвы.
«Да, если есть риск, что человек проявит агрессию на работе или учёбе – важно предупредить. Но это должно быть сделано очень аккуратно, с соблюдением конфиденциальности и с пониманием, зачем это нужно», – объясняет Кенжекар.

По её словам, когда человека публично называют агрессором, его психика может среагировать не раскаянием, а злостью и сопротивлением.
«Когда человека публично называют потенциальным агрессором, он может почувствовать стыд, злость, унижение. Это часто приводит не к раскаянию, а к сопротивлению и даже усилению агрессии».
Она подчёркивает, что последствия подобного решения могут затронуть не только самого нарушителя, но и его окружение. В семьях, где агрессор продолжает жить с жертвой, подобное «разоблачение» способно спровоцировать ещё большее насилие.
«Если агрессор узнает, что о ситуации сообщили на работу, он может обвинить жертву, начать мстить или усиливать давление. Это опасно, особенно если жертва продолжает жить с ним», – говорит Кенжекар.
Психолог обращает внимание и на важную деталь – реакцию общества. По её словам, эффект общественного осуждения может быть двояким.
«Иногда оно действительно помогает, если человек готов меняться. Но чаще вызывает защитную реакцию: “Меня не понимают”, “Меня унизили”. Лучше работает поддержка, терапия, работа с личными причинами агрессии».

Кенжекар добавляет, что в редких случаях коллектив может стать поддержкой, но чаще — источником давления. По её мнению, общественное порицание превращает личную трагедию в публичный стресс.
Психолог уверена, что цель подобных мер должна заключаться не в наказании, а в реальном изменении поведения.
«Важно помнить: цель – не наказать, а защитить и помочь изменить поведение. Нужно действовать с уважением к человеческому достоинству, даже если человек ошибся», – говорит психолог.
Зарина Кенжекар также объяснила, что страх наказания даёт лишь временный эффект. А вот системная работа с личностью, терапия, поддержка жертвы и изменение семейной динамики действительно дают результат.
При этом эксперт отмечает, что в разных странах проблема решается по-разному:
- в Испании, Канаде, Швеции работают мультидисциплинарные команды – полиция, соцработники и психологи;
- в Нидерландах делают акцент на психотерапию агрессора и помощь семье;
- в Великобритании действуют программы Respect и Drive, которые помогают агрессорам осознать свои поступки и пройти терапию без общественного унижения;
- в Новой Зеландии активно внедряется восстановительное правосудие — когда семьи участвуют в совместных конференциях, чтобы предотвратить рецидив.
Это не вмешательство, а способ защитить
Юрист Дана Барим сообщила корреспонденту CMN.KZ, что предложение депутатов не нарушает конституцию и права человека – напротив, оно усиливает защиту жертв насилия.
«Сегодня, к сожалению, о таких случаях знают только сама жертва и сам дебошир. Если же об этом станет известно работодателю, это усилит профилактический эффект. Это мера не наказания, а воздействия – и, в конечном итоге, защиты прав пострадавших», – объясняет она.
По её словам, международная практика подтверждает эффективность подобных решений. Например, в США и Великобритании давно существуют охранные ордеры – это аналог защитных предписаний.
«Там через такие ордера защищают жертв домашнего и сексуального насилия, а также преследований. Ограничивают звонки, встречи, контакты и результаты действительно положительные», – отмечает Барим.

Юрист подчёркивает: информирование работодателя не является вмешательством в частную жизнь, поскольку речь идёт не о распространении слухов, а о законном уведомлении, основанном на доказанном факте правонарушения.
«Если человек не хочет, чтобы о нём (предписании – прим.ред.) узнали, он просто не должен нарушать закон. Защитное предписание выписывают не по словам, а на основании заявления жертвы, медицинских заключений, аудиофиксаций и экспертиз. Это не клевета – это юридически установленный факт».
Барим поясняет, что при этом работодатели не имеют права применять к таким сотрудникам дисциплинарные меры или увольнять их. Их задача – обеспечить безопасность других сотрудников и создать условия для профилактической работы.
«Если человек проявляет агрессию дома, никто не может гарантировать, что он не проявит её на работе. Работодатель должен знать, с кем имеет работает – не для того, чтобы наказать, а чтобы предупредить возможные конфликты и защитить коллег. Возможно, провести беседу, понять, что происходит, и вовремя вмешаться», – считает юрист.

Эсперт также объяснила, почему ссылка на “ущерб репутации” здесь не имеет юридической силы. При этом, по словам Барим, каждый гражданин имеет право обжаловать решение органов, если считает его необоснованным. Но важно помнить, что цель этих мер – защита жертвы.
«Цель не в том, чтобы унизить, а в том, чтобы обезопасить. Государство должно защищать уязвимых, особенно женщин, детей и пожилых людей. Если нарушение доказано, общественное порицание – это не наказание, а предупреждение другим».
Она добавляет, что подобные механизмы уже существуют в других сферах – например, когда судебные исполнители уведомляют работодателей о задолженностях сотрудников перед банками.
«Если работодатель может знать, что сотрудник должен банку, почему он не может знать, что человек нарушил права другого гражданина?», – заключает юрист.
Нужны не позорные списки, а работающая система
Дискуссия вокруг «общественного порицания» показывает: общество всё ещё ищет баланс между правом на частную жизнь и правом на безопасность.
С одной стороны, инициатива может усилить профилактику и напомнить, что насилие – это не личное дело семьи. С другой – эксперты предупреждают: в условиях недоверия к полиции и страха за работу мужа такая мера может обернуться молчанием жертв.
Истинная профилактика, говорят правозащитники и психологи, начинается не с доски позора, а с доверия – к закону, к защите, к справедливости.
Читайте также:
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ